У гениев в истории скромное место
Моцарт опередил свое время, но не гениальностью сочинений, а попыткой жить по общественным законам, которые вступили в силу лишь через несколько лет после его смерти. О трагедии свободного художника, не заставшего эру свободных художников, — книга немецкого социолога Норберта Элиса. И все в ней хорошо, пока не появляется Фрейд, считает культуролог Артем Рондарев.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Норберт Элиас. Моцарт. К социологии одного гения. М.: Новое литературное обозрение, 2022. Перевод с немецкого Кирилла Левинсона. Содержание. Фрагмент
Норберт Элиас — один из самых заметных социологов прошлого века: его книга «О процессе цивилизации» в 1998 году по результатам опроса Международной социологической ассоциации была признана седьмой в списке самых влиятельных социологических трудов двадцатого столетия. Настоящая его работа, строго говоря, при его жизни в таком виде не существовала. Элиас в какой-то момент забросил сочинение книги о Моцарте, и издание, по которому сделан нынешний перевод, представляет собой компиляцию набросков и заметок, выполненную составителем его собрания сочинений Михаэлем Шретером.
Настоящая его работа, строго говоря, при его жизни в таком виде не существовала. Элиас в какой-то момент забросил сочинение книги о Моцарте, и издание, по которому сделан нынешний перевод, представляет собой компиляцию набросков и заметок, выполненную составителем его собрания сочинений Михаэлем Шретером.
Основную цель труда Элиас (довольно трогательно) формулирует так: «Представив его [Моцарта] трагедию так, как я пытаюсь это сделать, <…> возможно, удастся добиться того, чтобы люди немного лучше сознавали: с новаторами надо вести себя осторожнее». Отправной точкой для Элиаса является презумпция о том, что Моцарт под конец жизни был несчастен, что он перестал любить не только других, но и самого себя, а потому в какой-то момент устал и сдался. Объяснению того, почему он стал так экзистенциально несчастен, собственно, книга и посвящена. Читателю предоставляется право верить или не верить Элиасу на слово в этом вопросе: ссылок в книге очень мало, а те, что есть, — по большей части ссылки на собрание писем Моцарта. Библиография занимает одну страницу, и в ней указано пять биографий Моцарта, из которых на русский, кажется, переведена только монография Альфреда Эйнштейна. Эйнштейн в ней, в частности, отмечает свойственный Моцарту «глубочайший фатализм», из которого вытекала его «неизменная бодрость», что, наверное, в каком-то смысле близко к характеристике Элиаса.
Библиография занимает одну страницу, и в ней указано пять биографий Моцарта, из которых на русский, кажется, переведена только монография Альфреда Эйнштейна. Эйнштейн в ней, в частности, отмечает свойственный Моцарту «глубочайший фатализм», из которого вытекала его «неизменная бодрость», что, наверное, в каком-то смысле близко к характеристике Элиаса.
Моцарт, согласно классификации Элиаса, — это представитель мелкой буржуазии в мире, где господствуют добуржуазные отношения и иерархии. Тотальным законодателем как моделей поведения, так и вкусов здесь выступает наследственная аристократия (Элиас называет такие структуры «фигурациями», подразумевая под этим динамические социальные системы, образованные цепочками взаимодействий их участников, а модели поведения, предписываемые фигурациями, он именует «канонами»). Взаимоотношения Моцарта с этой средой, собственно, и составляют, согласно Элиасу, содержание его трагедии. Моцарт отчетливо осознавал себя гением — в то время, когда еще отсутствовало наше нынешнее понятие гения, отмечает Элиас, а Марк Бондс в книге «Абсолютная музыка» по этому поводу пишет: «Гениальная одаренность композиторов, разумеется, и ранее [XIX века] была предметом восхищения, но она понималась как способность, а не как свойство личности. В письмах Моцарта и его семьи часто идет речь о гении Вольфганга, хотя никто из близких никогда не говорит о Моцарте как о гении». В силу этого он мало желал мириться с непроницаемостью иерархических границ современного ему социума. Все это пока попахивает вульгарным марксизмом, однако позиция Элиаса сложнее. Он утверждает, что Моцарт, в силу своего происхождения, темперамента и отчетливого осознания собственной гениальности во многом презиравший аристократические круги, тем не менее всю жизнь искал одобрения именно и только среди них: его мало интересовал успех у публики его класса. Именно эта попытка своею музыкой и своим талантом получить одобрение избранной им недоступной референтной группы и быть принятым в ее среду во многом и обусловливает напряженные отношения Моцарта с окружающим социумом и его конечное трагическое отчуждение от него.
В письмах Моцарта и его семьи часто идет речь о гении Вольфганга, хотя никто из близких никогда не говорит о Моцарте как о гении». В силу этого он мало желал мириться с непроницаемостью иерархических границ современного ему социума. Все это пока попахивает вульгарным марксизмом, однако позиция Элиаса сложнее. Он утверждает, что Моцарт, в силу своего происхождения, темперамента и отчетливого осознания собственной гениальности во многом презиравший аристократические круги, тем не менее всю жизнь искал одобрения именно и только среди них: его мало интересовал успех у публики его класса. Именно эта попытка своею музыкой и своим талантом получить одобрение избранной им недоступной референтной группы и быть принятым в ее среду во многом и обусловливает напряженные отношения Моцарта с окружающим социумом и его конечное трагическое отчуждение от него.
Вдобавок, пишет Элиас, если в литературе и живописи буржуазные отношения, которые уже в начале XIX века будут определять облик индустрии производства и распространения искусства, уже вполне проявили себя — писатели могли во многом жить плодами своих литературных трудов, — то музыка, требующая, так сказать, куда более масштабной институциональной вовлеченности ее производителей, все еще существовала в старой модели создания и распространения: она могла быть написана и исполнена практически исключительно благодаря щедрости покровителей. Не существовало еще ни института музыкального менеджмента, ни индустрии платных концертов. Композитор, желающий услышать свою музыку и вообще хоть как-то жить, продавая ее, мог в худшем случае рассчитывать на концерты по подписке, а в лучшем, разумеется, — примкнуть к какому-либо двору и получать при нем жалование и заказы, оставаясь, однако, при этом в положении слуги, притом слуги весьма среднего ранга.
Не существовало еще ни института музыкального менеджмента, ни индустрии платных концертов. Композитор, желающий услышать свою музыку и вообще хоть как-то жить, продавая ее, мог в худшем случае рассчитывать на концерты по подписке, а в лучшем, разумеется, — примкнуть к какому-либо двору и получать при нем жалование и заказы, оставаясь, однако, при этом в положении слуги, притом слуги весьма среднего ранга.
Поэтому когда Моцарт, не желая мириться с положением слуги, оставил двор зальцбургского архиепископа и перебрался в Вену в том статусе, который сейчас называется «свободный художник» — то есть решил жить, продавая музыку на рынке, — то он пошел на существенный риск, рассчитывая на поддержку механизмов, которых еще в целом институционально не существовало, и в итоге проиграл. Причем для успеха его предприятия ему достаточно было прожить совсем немного, всего-то те пятнадцать лет, на которые был его младше Бетховен, чтобы очутиться в ситуации последнего, который мог, согласно его собственным словам, уже диктовать свою волю заказчикам. Однако, согласно мысли Элиаса, проиграв, Моцарт просто устал и сдался: именно этим объясняется скоропостижность его ранней смерти.
Однако, согласно мысли Элиаса, проиграв, Моцарт просто устал и сдался: именно этим объясняется скоропостижность его ранней смерти.
Несмотря на сангвинический и весьма сочувственный тон книги, она внутренне полемична: это видно в первую очередь по тому, как Элиас раз за разом подчеркивает заурядность Моцарта-человека и вдобавок неоднократно утверждает, что музыка Моцарта, в отличие от музыки Бетховена, была сущностно конвенциональной («…одной из предпосылок понятности и вечности его музыки стало то, что внутреннюю согласованность мотивов, рождавшихся в его голове, он сформировал в рамках традиционного канона»). Сходную парадоксальность сосуществования тривиальной личности Моцарта с его гениальной одаренностью показывает и Милош Форман в кинодраме «Амадей» и, собственно, создавший опосредованный литературный источник фильма Пушкин. Однако для Элиаса эта заурядность важна по особенной причине: он стремится доказать, что разделять человеческие качества и гениальность нельзя и нельзя в угоду нашим романтическим (и притом сущностно нормативным) представлениям о том, каким должен быть гений, жертвовать пониманием каузальной связи между человеческой стороной и гениальностью, полагая, что гениальность — это метафизический или врожденный дар, а уж кому он достался — дело десятое.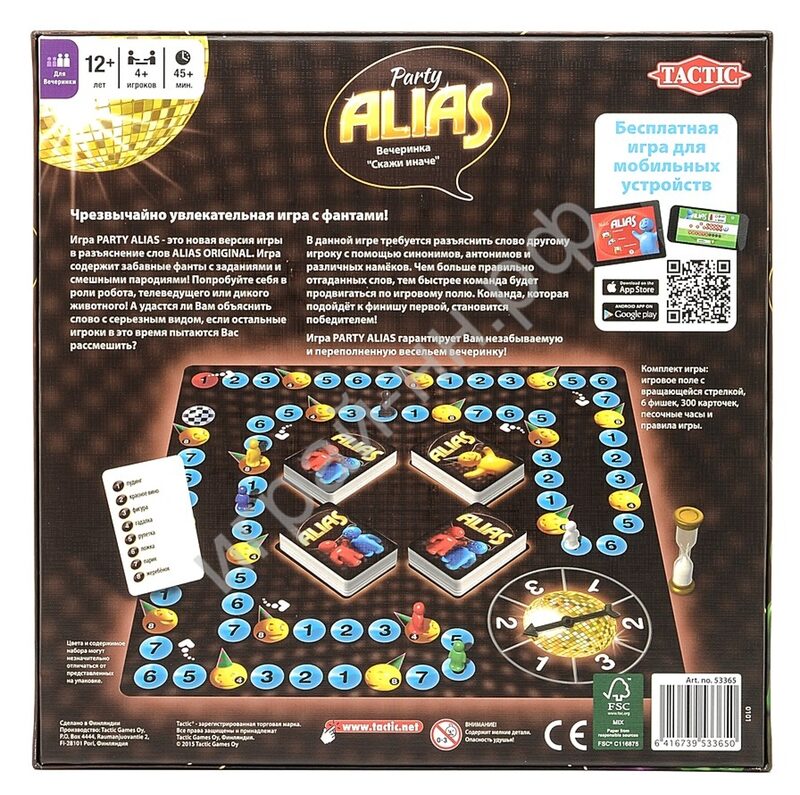
И вот тут начинаются проблемы.
Полемизируя с эссенциалистскими представлениями о «врожденной гениальности» Моцарта, Элиас прибегает для прояснения природы и механизма работы гения к психоанализу, притом по большей части фрейдовскому, который для него является своего рода эпистемологической данностью. Вот он безапелляционно сообщает: «Никто всерьез не сомневается, что в случае Моцарта, помимо других механизмов, уже в раннем детстве проявилась особенно сильная сублимационная трансформация энергий влечения».
Вот он объясняет этот механизм: «Вершина художественного творчества достигается тогда, когда спонтанность и изобретательность потока фантазии так сливаются со знанием присущих материалу внутренних законов и с силой суждения, присущей художественной совести, что новаторский поток фантазии в работе творца появляется как бы сам собой в форме, адекватной материалу и соответствующей художественной совести. Это один из наиболее социально плодотворных видов процесса сублимации».
И добавляет в примечании: «Когда такую трансформацию либидинозных сил называют „защитным механизмом“, этим лишь указывают на ее функцию. Пользуясь психоаналитической терминологией, можно сказать: в ходе сублимации три инстанции, которые Фрейд рассматривает по отдельности, — эго, ид и суперэго, — примиряются друг с другом».
Чем эта вся метафизика лучше эссенциалистской теории врожденного гения, — бог весть, но хуже другое: это внезапный и притом пространный психоаналитический этюд в середине книги как будто подрывает основные ее положения и даже самый ее фундамент. Если социологу, утверждающему, что «социология — это наука, которая призвана помогать нам лучше понять непонятное в нашей социальной жизни», для опровержения вульгарного редукционизма дихотомии «Моцарта-человека» и «Моцарта-гения» нужно прибегать к «сублимациям», то чего стоит его социология?
Наконец, те, кто, прочитав название этой работы, решит купить книгу «по музыке», скорее всего, будут разочарованы, потому что о музыке здесь нет почти ничего — ни о музыке как о форме искусства, ни о ее философии, ни даже о ее социологии. Кроме того, менее всего она — биография Моцарта: чтобы оценить все аргументы Элиаса, с биографией Моцарта необходимо иметь уже хорошее знакомство, потому что именно из презумпции заведомого знакомства читателя с биографией Моцарта тот и исходит, ссылаясь на те или иные события по большей части вне их диахронического контекста. Для Элиаса жизнь Моцарта — просто один из наиболее очевидных поводов изложить свои представления о «фигурациях» и месте в них гения, парадигмальным воплощением которого, согласно традиционному воззрению, Моцарт как раз и является. И, надо отметить, вопреки распространенному представлению о гениях как о творцах истории и реальности, место это весьма скромное, во всяком случае по произведенному эффекту, если верить книге.
Кроме того, менее всего она — биография Моцарта: чтобы оценить все аргументы Элиаса, с биографией Моцарта необходимо иметь уже хорошее знакомство, потому что именно из презумпции заведомого знакомства читателя с биографией Моцарта тот и исходит, ссылаясь на те или иные события по большей части вне их диахронического контекста. Для Элиаса жизнь Моцарта — просто один из наиболее очевидных поводов изложить свои представления о «фигурациях» и месте в них гения, парадигмальным воплощением которого, согласно традиционному воззрению, Моцарт как раз и является. И, надо отметить, вопреки распространенному представлению о гениях как о творцах истории и реальности, место это весьма скромное, во всяком случае по произведенному эффекту, если верить книге.
Тем не менее прочитать ее стоит: несмотря на проблематичность ряда утверждений, она как минимум наглядно показывает, в какой степени любой талант является производной от социальных, экономических и иерархических условий своего существования. Кроме того, она написана с неподдельной любовью к своему герою, а мы же все любим Моцарта.
Кроме того, она написана с неподдельной любовью к своему герою, а мы же все любим Моцарта.
Норберт Элиас. Мягкое принуждение
Хотя в последние годы своей жизни Норберт Элиас (Norbert Elias) (1897 — 1970)* был признан одним из величайших социологов XX века, по прочтении недавно опубликованного нового польского перевода О процессе цивилизации (Über den Prozeß der Zivilisation) появляется впечатление, что мы все еще не знаем его теорию общественных изменений или, по крайней мере, совсем не пытаемся с ней свыкнуться. Вообще говоря эта книга появилась по-польски в первый раз уже в 1980 году, но в форме сокращенной, крайне неудачной, большинство примеров было опущено и читателю были предоставлены только обобщения, что отнимало у работы значительную часть ее достоинств. Изучение примеров в книге Элиаса обязательно, это совсем не то, что можно сократить при издании.
Как важнейшая книга Элиаса изменила наше мышление о индивиде и обществе? Прежде всего Элиас уничтожает классическое разделение, которое для социологии было, есть и определенно еще будет ключевым — разделение на индивида и общество.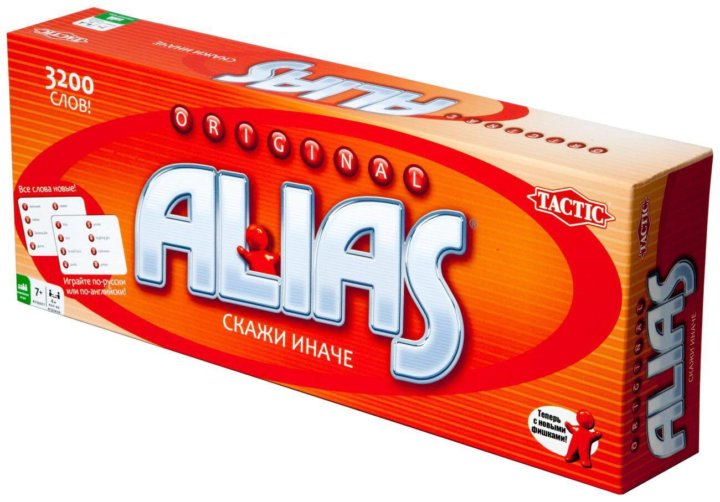 Он мыслит одновременно в социологических, исторических и психологических категориях и обвиняет современную ему социологию в том, что она изолирует социологию общественных изменений от изменений в психике индивида — и наоборот. По Элиасу современная ему социология отказалась от истории и выделила социальную психологию в отдельную дисциплину в исследованиях на пограничье психологии и социологии. Для Элиаса это бессмысленно, не научно. Для него не существует таких явлений как индивид сам по себе и общество само по себе — и все они не существуют вне истории (тут к Элиасу был близок польский социолог Флориан Знанецкий).
Он мыслит одновременно в социологических, исторических и психологических категориях и обвиняет современную ему социологию в том, что она изолирует социологию общественных изменений от изменений в психике индивида — и наоборот. По Элиасу современная ему социология отказалась от истории и выделила социальную психологию в отдельную дисциплину в исследованиях на пограничье психологии и социологии. Для Элиаса это бессмысленно, не научно. Для него не существует таких явлений как индивид сам по себе и общество само по себе — и все они не существуют вне истории (тут к Элиасу был близок польский социолог Флориан Знанецкий).
Предметом исследований Элиаса являются историческое изменения, определяемые ученым как «процесс цивилизации». Ошибся бы тот, кто посчитал бы, что эти изменения принимает форму прогресса. У Элиаса действительно есть надежда, что когда-либо можно будет достичь полного успеха в этом процессе — но посвящает он этому только один абзац в огромной работе. А в разговоре, опубликованном незадолго перед смертью, он говорит прямо следующее: «Когда говорится о процессе цивилизации, не имеется в виду то, что мы цивилизованны. Мы стараемся найти удовлетворение для наших эмоциональных желаний и потребностей — и таким образом, что получаем радость задевая других и не используя при этом насилие, не теряя над собой контроль, а также не задевая свою гордость и не впадая в скуку. Этого бы мы хотели, но нам еще очень далеко до полного соответствия этим представлениям о получении удовольствия. Это проблема еще не решена».
Мы стараемся найти удовлетворение для наших эмоциональных желаний и потребностей — и таким образом, что получаем радость задевая других и не используя при этом насилие, не теряя над собой контроль, а также не задевая свою гордость и не впадая в скуку. Этого бы мы хотели, но нам еще очень далеко до полного соответствия этим представлениям о получении удовольствия. Это проблема еще не решена».
Описание Элиасом процесса цивилизации напоминает о некоторых утверждениях Томаса Гоббса и становятся доводами в их пользу. Редко случается так, чтобы у социолога было так много что сказать на философские темы, в данном случае на темы политической философии. Когда мы читаем Элиаса, мы начинаем лучше понимать почему концепции Гоббса пользовались таким интересом среди философов политики в 20 веке и пользуются им до сих пор. Элиас преобразует гипотезу Гоббса (не вспоминая о нем ни разу) касающуюся естественного состояния (известное человек человеку волк) в социологическо-историческое описание общественных отношений, в том числе поведения и представлений индивида в Средневековье. Элиас имеет вполне определенный взгляд на человеческую природу: мы подвержены аффектам, импульсивны и несклонны поддаваться контролю если не принуждены к этому своим благоразумием либо через различные формы внешнего мягкого принуждения. В Средневековье мягкое принуждение не существовало и, следовательно, чисто физическое принуждение было наиболее часто используемой формой приобретения состояния и получения удовольствия. Люди того времени, как отмечает Элиас, имели чувство, что в своей повседневности подвержены или страшному физическому насилию или аскезе, что между прочим показывает и художественное воображение о Страшном Суде и Аду. Позднее поведение постепенно подвергается изменениям — мы «цивилизуемся» — но этот процесс является медленным и в значительной степени происходящим под давлением общественных изменений.
Элиас имеет вполне определенный взгляд на человеческую природу: мы подвержены аффектам, импульсивны и несклонны поддаваться контролю если не принуждены к этому своим благоразумием либо через различные формы внешнего мягкого принуждения. В Средневековье мягкое принуждение не существовало и, следовательно, чисто физическое принуждение было наиболее часто используемой формой приобретения состояния и получения удовольствия. Люди того времени, как отмечает Элиас, имели чувство, что в своей повседневности подвержены или страшному физическому насилию или аскезе, что между прочим показывает и художественное воображение о Страшном Суде и Аду. Позднее поведение постепенно подвергается изменениям — мы «цивилизуемся» — но этот процесс является медленным и в значительной степени происходящим под давлением общественных изменений.
Что же такого случилось, что мы смогли выйти из этой формы жизни? Гоббс единственным выходом из ситуации войны всех против всех считал появление политического общества, которое посредством множества институциональных и неформальных действий принуждает людей к процессу цивилизации и избеганию физического насилия. Это принуждение не было принято с враждебностью поскольку люди вместо дикой вольницы получили безопасность, гарантированную цивилизацией. Когда Элиас анализирует развитие государства и налоговой системы, он замечает, что это также формы принуждения, но такого, что постепенно все больше гарантирует индивиду безопасность перед непосредственной физической опасностью. Однако — как и у Гоббса — нам всегда угрожает отступление и нет никакой причины считать, что цивилизованные люди лучше нецивилизованных. Они другие, более безопасные, но — подчеркнем еще раз — речь не идет о какой-либо форме прогресса.
Это принуждение не было принято с враждебностью поскольку люди вместо дикой вольницы получили безопасность, гарантированную цивилизацией. Когда Элиас анализирует развитие государства и налоговой системы, он замечает, что это также формы принуждения, но такого, что постепенно все больше гарантирует индивиду безопасность перед непосредственной физической опасностью. Однако — как и у Гоббса — нам всегда угрожает отступление и нет никакой причины считать, что цивилизованные люди лучше нецивилизованных. Они другие, более безопасные, но — подчеркнем еще раз — речь не идет о какой-либо форме прогресса.
Однако цена процесса цивилизации значительна. Люди интериоризируют конфликты, а новые привычки — результат разделения труда и промышленного развития — в ситуации исчезновения высшего сословия, аристократии приводят к тому, что все становятся все более похожими друг на друга. Сам факт, что все должны работать, является абсолютным культурным новшеством для человечества.
Получается, что процесс цивилизации — что сейчас начинают замечать некоторые социологи — является процессом умножения формальных и неформальных институтов. Мы подчиняемся их власти и должны примириться с этим. Однако Элиаса от Гоббса отличает убежденность в том, что решение о начале процесса не имело — по мнению немецкого ученого — рационального характера. Норберт Элиас с иронией относится к тем, кто видит в истории реализацию намерений разума — и в особенности эта ирония относится к Гегелю. Для Элиаса процесс цивилизации пошел сам собой и никто не имел над ним контроля. Что еще важнее, так должно быть и в будущем — дальнейший процесс цивилизации по Элиасу также будет происходить вне нашего контроля и мы совершим ошибку, если посчитаем, что сможем повлиять на этот процесс через наши рациональные концепции и планы. Из этого совсем не следует, что процесс цивилизации имеет иррациональный характер — скорее то, что он находится вне нашего контроля. По Элиасу длительный процесс цивилизации можно сравнить с феноменами природы, мы много о них знаем, но вместе с тем очень слабо можем на них влиять.
Мы подчиняемся их власти и должны примириться с этим. Однако Элиаса от Гоббса отличает убежденность в том, что решение о начале процесса не имело — по мнению немецкого ученого — рационального характера. Норберт Элиас с иронией относится к тем, кто видит в истории реализацию намерений разума — и в особенности эта ирония относится к Гегелю. Для Элиаса процесс цивилизации пошел сам собой и никто не имел над ним контроля. Что еще важнее, так должно быть и в будущем — дальнейший процесс цивилизации по Элиасу также будет происходить вне нашего контроля и мы совершим ошибку, если посчитаем, что сможем повлиять на этот процесс через наши рациональные концепции и планы. Из этого совсем не следует, что процесс цивилизации имеет иррациональный характер — скорее то, что он находится вне нашего контроля. По Элиасу длительный процесс цивилизации можно сравнить с феноменами природы, мы много о них знаем, но вместе с тем очень слабо можем на них влиять.
Норберт Элиас учит нас самому важному — тому, что понимать что-либо совсем не равнозначно наличию возможности рационально, планомерно изменять это. Для нас, все еще находящихся под влиянием такого образа мысли, это совсем не является банальным.
Для нас, все еще находящихся под влиянием такого образа мысли, это совсем не является банальным.
Примечания
* Очевидная опечатка в оригинальном тексте — Норберт Элиас умер в 1990 году.
Мартин Круль (Marcin Król) — историк идей, философ, профессор Института общественных наук Варшавского университета
Переведено с разрешения редакции dwutygodnik.com. Оригинал текста на польском языке: https://www.dwutygodnik.com/artykul/3021-miekki-przymus.html
Элиас (Стэнфордская философская энциклопедия)
Элиас — имя автора, который в ходе
сложная история текстовой передачи, стала ассоциироваться
с некоторыми рукописями позднеантичных комментариев к Аристотелю и
Порфир. На основании определенного сходства стиля и содержания,
принято считать, что произведения, передаваемые под именем
«Илия», как и произведения, приписываемые
«Давид» вышел из школы Олимпиодора в
Александрии и что автор жил и работал там во второй
половине 6 века н. э. Однако убедительные доказательства того, что неоплатоническая
философ, носивший христианское монашеское имя Илия.
когда-либо существовавшие, на самом деле скудны. В этой статье «Элиас»
используется для обозначения предполагаемого автора комментариев в настоящее время
приписывается ему. (См. далее раздел 3 ниже.)
э. Однако убедительные доказательства того, что неоплатоническая
философ, носивший христианское монашеское имя Илия.
когда-либо существовавшие, на самом деле скудны. В этой статье «Элиас»
используется для обозначения предполагаемого автора комментариев в настоящее время
приписывается ему. (См. далее раздел 3 ниже.)
1. Введение
VI век является свидетелем одновременно кульминации и упадка
давняя традиция философских комментариев к произведениям Платона и
особенно Аристотеля. Эта традиция началась еще в I в.
до н.э., но впервые она становится для нас ощутимой с комментариями к
Аристотель Аспасиус во 2 веке н.э. и особенно с
Александр Афродисийский в начале 3 века. Это экзегетическое
традиция достигла своего апогея в первой половине VI в.
с великими произведениями Аммония Гермейу и его учеников Симплиция
и Иоанн Филопон. Последний был христианином, который после многих
критика и полемика, порвал с (языческой) неоплатонической школой
философии и обратил свою энергию на толкование библейских текстов как
а также богословские споры своего времени.
2. Сохранившиеся сочинения
Были опубликованы три работы, приписываемые Элиасу: комментарий к « Исагога » Порфирия, комментарий к «Исагоге » Аристотеля. Категории (оба в Комментарии в Аристотелеме Graeca Vol 18) и третья, сильно усеченная работа по Аристотеля Предыдущая аналитика (см. Westerink 1961). автор этих произведений мог быть учеником Олимпиодора, а в В таком случае вполне возможно, что комментарий к Isagoge был составлен в виде стенограммы Лекции Олимпиодора.
В традициях неоплатонической философской подготовки, Исагоги Порфирия и Аристотеля Категории были частью стандартной учебной программы для
новичков, практика, хорошо зарекомендовавшая себя к 5-му и 6-му
веков. Подобно Аммонию Гермейу до него, Элиас предваряет
лекции по Isagoge с очень общим
«Введение» в философию, текст, принадлежащий
жанр протрептической или назидательной философской литературы.
Увещевание Элиаса к философии состоит из 12 лекций, написанных
служить тройной цели: 1. очертить и определить объем
философии, 2. обосновать различные темы лекций
учащиеся собираются услышать, и 3. мотивировать их в целом
пройти курс философии.
Подобно Аммонию Гермейу до него, Элиас предваряет
лекции по Isagoge с очень общим
«Введение» в философию, текст, принадлежащий
жанр протрептической или назидательной философской литературы.
Увещевание Элиаса к философии состоит из 12 лекций, написанных
служить тройной цели: 1. очертить и определить объем
философии, 2. обосновать различные темы лекций
учащиеся собираются услышать, и 3. мотивировать их в целом
пройти курс философии.
В какой-то степени введение Элиаса в философию выявляет
индивидуальный характер и темперамент автора. Он встречается как
очень живой лектор, ослеплявший своих студентов цитатами и
аллюзии разных видов. Например, в своих 12 вводных лекциях
Платон упоминается 22 раза; есть 15 цитат из Гомера как
а также многочисленные разрозненные ссылки на Аристотеля, Плотина, Прокла,
Марин, Гиерокл, Пифагор, Архилох, Феогнис, Геродот,
Каллимах, Демосфен, Софокл, Еврипид, Менандр, Гален и др.
безымянный стоик. Более того, Элиас неоднократно подчеркивает
Платоновско-неоплатоническое убеждение в том, что целью философии является
превращение или уподобление человека божеству,
подлинно платонический идеал, явно сформулированный в Теэтет ,
176А-Б. Учитывая, что к концу 6 века профессор в Александрии,
или где-либо еще в Восточной империи, обратились бы преимущественно к
если не исключительно христианской аудитории, эти замечания заставляют задуматься,
особенно если считать, что они исходят от автора, который, если
атрибуции «Элиас» можно доверять, сам подписался
к христианству. Для христианина, конечно, приближающегося к Божеству
не было бы результатом чтения и принятия философии Платона
но божественной благодати, зависящей от веры.
Учитывая, что к концу 6 века профессор в Александрии,
или где-либо еще в Восточной империи, обратились бы преимущественно к
если не исключительно христианской аудитории, эти замечания заставляют задуматься,
особенно если считать, что они исходят от автора, который, если
атрибуции «Элиас» можно доверять, сам подписался
к христианству. Для христианина, конечно, приближающегося к Божеству
не было бы результатом чтения и принятия философии Платона
но божественной благодати, зависящей от веры.
В своем предисловии к « категориям » Аристотеля Элиас дает краткое и замечательное описание качеств идеального комментатора должен иметь ( CAG 18.1, стр. 122f, как цитируется Wilson 1983, 47):
Комментатор должен быть и комментатором, и ученым одновременно. время. Задача комментатора — распутать неясности в текст; задача ученого — судить, что верно, а что нет. ложно, или что бесплодно, а что продуктивно. Он не должен уподобляться авторам, которых он излагает, как актерам на сцены, которые надевают разные маски, потому что подражают разным персонажи.Излагая Аристотеля, он не должен становиться Аристотеля и говорят, что никогда не было такого великого философа; когда толкуя Платона, он не должен становиться платоником и говорить, что никогда не был философом, достойным Платона. Он не должен форсировать текст в все издержки и говорят, что древний автор, которого он излагает, правильный во всех отношениях; вместо этого он должен вообще повторять про себя раз «автор — дорогой друг, но такова и истина, и когда оба стоят передо мной, правда — лучший друг». Он должен не симпатизировать философской школе, как это случилось с Ямвлихом, который из симпатии к Платону снисходительно относится к Аристотеля и не будет противоречить Платону в отношении теории идеи. Он не должен враждебно относиться к такой философской школе, как Александр (Афродисиады). Последний, враждебно относящийся к бессмертию интеллектуальной части души, пытается всячески извратить замечания Аристотеля в его третьей книге о бессмертии души которые доказывают, что он бессмертен. Комментатор должен знать все Аристотеля для того, чтобы, предварительно доказав, что Аристотель согласуясь с самим собой, он может истолковывать труды Аристотеля, средствами произведений Аристотеля. Он должен знать всего Платона, в для того, чтобы доказать, что Платон согласуется с самим собой, и сделать произведения Аристотеля, введение в произведения Платона.
3. Проблема авторства
Название недавно опубликованной рукописи, датированной 13 или 14 века и содержащий комментарий Prior Analytics , предполагает, что Элиас, названный автором комментария, когда-то занимал пост префекта Византийской империи. в Novellae Юстиниана, префекта по имени Элиас. действительно упоминается ( Novel.
 Префект (преторианский или городской) в поздней Римской империи.
был, как прямой представитель императора, высшим гражданским
администратор региона или города (главным образом Рима или
Константинополь). Если бы наш комментатор действительно обладал таким прославленным
должности, по-видимому, после того, как он зарекомендовал себя как профессор
философии (ср. жизнь Фемистия), он, скорее всего, тоже происходил из
знатная дворянская семья. К сожалению, кроме скудного
свидетельства, найденные в поздних рукописях сохранившихся комментариев
больше ничего не известно о философе или префекте по имени
Элиас. Довольно полный византийский список комментаторов
Порфирий и Аристотель не знают ни одного философа с таким именем.
ни Фотий (9й в. византийский ученый) и автор Суда,
10 в. энциклопедия. Пристальный взгляд на рукописную традицию
показывает, что тексты, которые теперь приписываются Элиасу, распространялись как анонимные
рукописи в течение значительного времени, а это означает, что атрибуция
один «Элиас» добавлен гораздо позже.
Префект (преторианский или городской) в поздней Римской империи.
был, как прямой представитель императора, высшим гражданским
администратор региона или города (главным образом Рима или
Константинополь). Если бы наш комментатор действительно обладал таким прославленным
должности, по-видимому, после того, как он зарекомендовал себя как профессор
философии (ср. жизнь Фемистия), он, скорее всего, тоже происходил из
знатная дворянская семья. К сожалению, кроме скудного
свидетельства, найденные в поздних рукописях сохранившихся комментариев
больше ничего не известно о философе или префекте по имени
Элиас. Довольно полный византийский список комментаторов
Порфирий и Аристотель не знают ни одного философа с таким именем.
ни Фотий (9й в. византийский ученый) и автор Суда,
10 в. энциклопедия. Пристальный взгляд на рукописную традицию
показывает, что тексты, которые теперь приписываются Элиасу, распространялись как анонимные
рукописи в течение значительного времени, а это означает, что атрибуция
один «Элиас» добавлен гораздо позже. Учитывая, что есть
ничего явно христианского в этих произведениях (нет
ссылки на Библию, но текст изобилует ссылками на языческие
философов и литераторов), и учитывая, что мы находим явное
признание доктрин, явно противоречащих
христианство (например, что философ должен стремиться подражать солнцу;
что мир вечен), можно занять более скептическую
положение (ср. Вильдберг 1990). То есть возникают подозрения.
что первоначальный автор мог быть вовсе не христианином, а
новоявленный язычник, который, подобно Олимпиодору, преподавал греческую философию
Христианская аудитория. В этом случае присвоение этих
комментарии к некоторым «Илиям» вполне могли быть мотивированы
монашескими писцами, стремившимися оправдать копирование этих языческих
философские тексты, придумав хорошее христианское имя для их
автор. В качестве альтернативы, если автор действительно был христианским префектом
Элиаса, как предлагает Вестеринк, нам предлагается изменить нашу
предубеждения о возможности языческого философского дискурса
в христианской культуре Византийской империи.
Учитывая, что есть
ничего явно христианского в этих произведениях (нет
ссылки на Библию, но текст изобилует ссылками на языческие
философов и литераторов), и учитывая, что мы находим явное
признание доктрин, явно противоречащих
христианство (например, что философ должен стремиться подражать солнцу;
что мир вечен), можно занять более скептическую
положение (ср. Вильдберг 1990). То есть возникают подозрения.
что первоначальный автор мог быть вовсе не христианином, а
новоявленный язычник, который, подобно Олимпиодору, преподавал греческую философию
Христианская аудитория. В этом случае присвоение этих
комментарии к некоторым «Илиям» вполне могли быть мотивированы
монашескими писцами, стремившимися оправдать копирование этих языческих
философские тексты, придумав хорошее христианское имя для их
автор. В качестве альтернативы, если автор действительно был христианским префектом
Элиаса, как предлагает Вестеринк, нам предлагается изменить нашу
предубеждения о возможности языческого философского дискурса
в христианской культуре Византийской империи.
Джонатан Элиас, доктор медицины | Patient Care
Patient Care
About
Specialties and Expertise
Specialties
- Pediatrics
- General Pediatrics
Expertise
- Medical Informatics
- Preventive Medicine Specialist
- Newborn
- Adolescents
Биография
Д-р Джонатан Элиас получил медицинскую степень в Медицинском колледже Сиднея Киммела при Университете Томаса Джефферсона в Филадельфии в 2015 году. В 2018 году он прошел ординатуру по педиатрии в Медицинском центре Вейл Корнелл и прошел дальнейшее обучение в качестве клинического информатика в Колумбийском университете Ирвинг Медикал. Center в 2020 году. Во время обучения клинической информатике д-р Элиас помог оптимизировать связь с мобильными больницами с помощью современных приложений.
Во время обучения клинической информатике д-р Элиас помог оптимизировать связь с мобильными больницами с помощью современных приложений.
Доктор Элиас — сертифицированный педиатр, интересы которого в области педиатрии включают уход за новорожденными, профилактическую медицину, а также использование новейших технологий для улучшения ухода за детьми. Он является помощником медицинского директора по информационным службам в Медицинском центре Weill Cornell, где в его обязанности входит сосредоточение внимания на клинической эффективности, качестве обслуживания, безопасности пациентов и рабочих процессах применительно к электронной медицинской карте. Он проявляет особый интерес к использованию новых технологий для улучшения ухода за пациентами и взаимоотношений между врачом и пациентом.
Исследования
Просмотр исследования
Условия
Сертификаты совета директоров
- Американский совет по педиатрии
Клинические и академические позиции
- ОСОБЕННОСТИ.
 Колледж, Корнельский университет
Колледж, Корнельский университет - Преподаватель медицинских наук в области народонаселения – Медицинский колледж Вейла Корнелла, Корнельский университет
Образование и обучение
- M.D., Медицинский колледж Джефферсона, Университет Томаса Джефферсона, 2015
- B.A., Columbia University, 2011
Страхование
Страховые планы. принимает этот врач. Если ваша страховая компания не указана здесь, обратитесь в офис врача, поскольку у них могут быть индивидуальные договоры, не представленные на этом сайте.
* указывает, что этот врач больше не принимает новых пациентов с этим планом страхования.
- АЭТНА — РРО
- АЭТНА — ОПЗ
- План управляемого ухода для сотрудников Aetna Weill Cornell
- Aetna Weill Cornell, сотрудник PPO, план
- Aetna-NYP — EPO/POS
- ЦИГНА
- Empire Blue Cross/Blue Shield — Mediblue (старший)
- Empire Blue Cross / Blue Shield — PPO
- Empire Blue Cross/Blue Shield — HMO
- Empire Blue Cross/Blue Shield — EPO
- Empire Blue Cross/Blue Shield — Blue Access
- * Медикейд
- Медикэр
- Оксфордские планы медицинского страхования — свобода
- Оксфордские планы медицинского страхования — свобода
- Oxford Health Plans — Metro/Core/Charter
- Университет Рокфеллера — Trustmark
- Объединенная Империя
- Объединенное здравоохранение
- Компас United Healthcare
- WorldWide Medical
Должности и должности
Внешние связи
Внешние связи
Отношения и сотрудничество с коммерческими и некоммерческими организациями имеют жизненно важное значение для нашего факультета, поскольку такой обмен научной информацией способствует инновациям.
